Skip to content
More
Share
Explore

 Люди, горы и реки, звуки (2018)
Люди, горы и реки, звуки (2018)
В аэропорту, к которому у меня чувства особенно трепетные, оказалась растворена в огромном потоке людей. Обезоруживающие улыбки его служащих, с прищуром всматривающихся в прилетевших, определяя градус их состояния: себя ли изыскать примчал сюда, человечище, на других ли посмотреть, себя ли показать? Ребят в нем стало слышно почти сразу с их появлением. Люди в очереди оглядывались. Мы - не они - задорно и браво хохотали, проходя процедуры оформления. Теплый воздух послеобеденного Катманду мягко наполнял, вместе с приятной суетой и привычным шумом стартовых сборов.
Маленькая, крепкая белая камера начала трудиться почти непрерывно, собирая в себя цвета, формы, темпы, размеры, а также ритмы, звуки. Ей бы пауз, пауз в потоке речитатива для перспективы, масштабов и глубины происходящего, но в другой раз. Значительно позже. Когда горы невзначай коснутся своей целительной магией говорящего, открыв путь тишине.
Буквально каждого из нас яснее стало слышно вечером, при знакомстве в просторном фойе культовой «Yak and Yeti». Постояльцы не вглядывались - привычное дело - новая волна прибывших уже завтра сойдет на нет, уйдет по своей тропе.
Грусть, как модус восприятия жизни, думалось мне тогда, - это форма благодарности за жизнь. Форма острого переживания её драгоценности. Такая, в которой мы заранее познаём недолговечность жизни, её хрупкую обреченность.
Сначала, с прозеленью самолету Yeti Airlines, потом, желтому вертолету, доставивших нас из Катманду через Tumlingtar в Taplejung, досталась отличная порция уже не хохота, а раскатистого смеха, вперемешку с мягко текущими и отрывистыми звуками голосов говорунов и тихонь. Нашу полифонию застанут и фойе гостиницы в Taplejung, и столовые лоджий: в Chirwa у живописного моста над грохочущей рекой; в Amjilosa рядом с пчелиным ульем; в Ghunza, восхитительно красивом месте с элементами религиозного культа, естественно вписанными в пространство; в Kambachen, где изучала созвездия Персея и Андромеды на небе, и где гуляли к месту выпаса яков; в Lhonak, где красота и протяженность пути в KBC и обратно застали меня врасплох; в Cheram, где утопила Андрея слезами, а хоровое пение, увы, пропустила; в Yamphudin, лоджии-вагоне, из которой после игры с детьми и мячом мы выбирались по ступеням на каменном заборе; в Kande Bhanjyang, где дождь хотел, но поспешил и не застал нас в пути, хотя и подобрался к молоденьким хозяйкам дома, с очень раннего утра готовившим нам завтрак.
Вот как стоило бы жить: быть сложным для себя и простым для других, думалось мне тогда, по мотивам звучавшего вечерами. Сложное - убирать: это - кухня, мастерская, чад и варево, визг рубанков и стук молотков. До простого, безусловно, надо дорабатываться. Мы столь же не вправе никого обременять собственной сложностью, как и не вправе заставлять кого бы то ни было вкалывать на нашей внутренней кухне-мастерской, выделывая лишь нам одним порученный, нашей ответственности вверенный продукт. Еще короче: сваливать на других нашу сложность - значит заставлять их работать за нас. Внутреннюю работу возможно выполнить только самому, аккуратно и добросовестно доводя её до конца.
И тропы, тропы почти сплошь рядом с которыми горные реки, им досталось бесценное звучание. Если они могут слышать друг друга, то одни другим дарят вечный шум, а тропы дарят тишину, в которую вплетается и птичий гомон, и шелест листьев, и звуки движущихся камней, животных и людей. Звуки прелюдий и фуг по мотивам происходящего на равнине и в наших душах проникали в пространство троп и рек, возникнув, тотчас исчезали, оставаясь в памяти репликами и паузами.
Долгожданные часы тишины наступили и у белой крепкой камеры, её спутник увлекался на тропах горами, а также, казалось, "новыми далями" себя самого.
Легкое отношение к жизни совершенно не предполагает небрежности, - думалось мне тогда. Оно и поверхностности, более того, не предполагает. Глубина восприятия вещей - форма уважения к ним. А предполагает оно скорее бережность и осторожность к тому, чего-легко-касаешься. Не хватая, а трогая. Не навязывая форму своей руки, а позволяя быть самим собой. Тяжеловесность не дает слышать вещи жизни. Хочу слышать их. Всё больше хочу этого, а о своём - говорить на языке молчания.
И мы, много нас, текущих словно реки вдоль многочисленных троп у Канченджанги. Неведомо откуда и в будущую неизвестность, выразительно зазвучавших полифониями, прелюдиями и фугами в осенних Гималаях. Отважных, открытых и неожиданно мягких в этом путешествии. Люди, как интонации бытия, с которыми оно обращается к нам. Интонации, подобранные случаем так, чтобы нам было понятнее всего, и чтобы нас чувствительнее тронуло. Думалось, не слышать их возможно разве что вследствие глухоты, притом, добровольной. Люди, шагнувшие в разлом повседневности, чтобы сломать инерционность восприятия, чтобы через эти щели-сломы проникаться надмирским, знанием о нашей встроенности в такой порядок бытия, который на нас не рассчитан. Свидетельство инобытия - наши невозможности, наши внутренние и внешние тупики. Чувствуется, есть что-то очень мудрое в том, чтобы принимать: давать им состояться с нами, проработать нас.
Может быть, по отношению к миру незримого, инобытия мы слепы, а чувственные вещи этого мира даны нам чем-то вроде азбуки Брайля. Не хватая, а прикасаясь, не навязывая форму своей руки, а позволяя им быть самими собой, мы способны составить некоторое представление о том, к постижению чего нас любезно пригласили; кажется, это наша единственная возможность.
Want to print your doc?
This is not the way.
This is not the way.
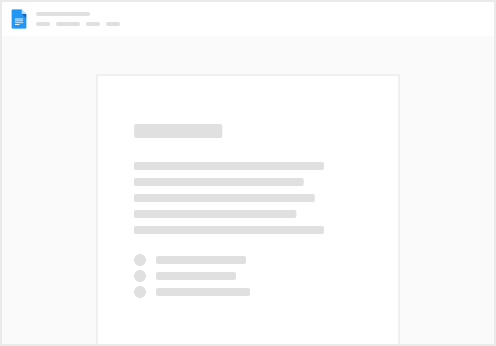
Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.